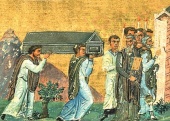Христианство с первых веков своего существования стало не только религией, но и культурообразующим явлением. Во многом основываясь на античной и иудейской традициях, христианство создавало новые культурно-религиозные феномены. Одним из таких отличительных явлений можно назвать почитание мощей — тела усопшего человека, причисленного Церковью к лику святых. Почтительное отношение к останкам и погребениям духовных авторитетов имеет место в практике других мировых религий — буддизма, ислама, однако по масштабу распространения, а главное — по духовному и культурному значению эти практики существенно отличны от христианской традиции. Статья опубликована в «Журнале Московской Патриархии» (№ 1, 2025, PDF-версия).
Представление о том, что к мертвому телу можно относиться с почтением, явилось своего рода революцией в мировоззрении человека эпохи поздней Античности, поскольку как для языческого Рима или Греции, так и для иудейской цивилизации было характерно отношение к мертвому телу как к нечистому. Покойников никогда не хоронили в городской черте, но всегда за стенами города (extra muros), в некрополях (обширных погребальных комплексах), запрет на сжигание и захоронение мертвецов в черте города известен с глубокой древности[1]. С изменением отношения к смерти, связанным с христианским учением о всеобщем воскресении, изменилась и организация кладбищ — они не просто стали частью пространства города, но возникла их сакральная связь с церковными комплексами. Трансформация подхода к одной из важнейших ритуальных сторон жизни — захоронению — стала одним из поворотных моментов в разрыве с античной традицией, который еще более углубился, когда начало формироваться не просто допущение погребения человека в черте города или даже в церкви, но еще и почитание самого мертвого тела, если оно принадлежало святому. Это было настолько далеко от всех влиявших на христианство традиций, что остается только удивляться, с какой быстротой и легкостью произошел этот переход.
Так, в Ветхом Завете мертвое тело однозначно рассматривается как нечистое, и любое, даже случайное прикосновение к нему нуждалось в ритуальном очищении: Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней: он должен очистить себя сею водою в третий день и в седьмой день, и будет чист; если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист; всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа... Вот закон: если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь дней... Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет семь дней (Числ. 19:11-14). Однако в Ветхом Завете упоминается случай, когда тело почившего пророка проявляет благотворные свойства: И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это полчище (моавитян. — О. А.), погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои (4 Цар. 13:21). То есть прикосновение к останкам Елисея буквально воскресило покойного.
Итак, несмотря на уходящие корнями в глубокую древность обычаи всячески сторониться кладбищ и мертвецов, христиане, почитающие мощи, создают новую сакральную реальность. Одно из самых ранних свидетельств почитания мощей — мученичество священномученика Игнатия Богоносца († нач. II в.), в котором сообщается о перенесении с особыми почестями его святых останков из Рима, где он был растерзан львами в Колизее, к нему на родину в Антиохию, хотя первоначально святой был все же похоронен на кладбище в Дафне[2], за городскими воротами, в Антиохию его мощи были перенесены только в V веке. Важнейшим примером раннего почитания мощей служит также мученичество священномученика Поликарпа Смирнского († не ранее 155 г.), где буквально говорится: «И так мы взяли затем кости его, которые драгоценнее дорогих камней и благороднее золота, и положили, где следовало»[3]. Ко времени правления императоров-соправителей Диоклетиана и Максимиана Галерия (кон. III — нач. IV в.) мы наблюдаем уже полностью сформированное отношение к телам мучеников как к святыне. В мученичестве Вонифатия Римского, написание которого признается исследователями близким по времени к описываемым событиям, в основе сюжета лежит желание госпожи Вонифатия, знатной римской христианки Аглаи, иметь у себя мощи мучеников, за которыми она и посылает своего слугу[4].
После окончания эпохи гонений (313 г., Медиоланский эдикт) и начале утверждения христианства в Восточно-Римской империи, получившей в дальнейшем условное наименование Византии, новое (не античное) отношение к мощам демонстрируют и первые византийские императоры. Святой равноапостольный Константин I Великий, в прошлом весьма религиозный язычник, последователь культа Аполлона и крестившийся лишь на смертном одре († 337), начинает строительство в новой столице Константинополе специального мавзолея — храма святых апостолов (не сохранился), который задумывается как единый кенотаф всех двенадцати апостолов, а также этот храм, по замыслу Константина, был предназначен для погребений (усыпальниц) императоров и епископов, впоследствии Патриархов Константинопольских. Константин I не успел довести до конца строительство грандиозного мавзолея, но задуманное продолжил один из его сыновей — император Констанций II (337-361). Первым похороненным в храме Двенадцати апостолов стал сам Константин I. Позже Констанций II приказал извлечь из мест первоначального погребения мощи апостолов Тимофея, Андрея Первозванного и Луки и перенести их в Константинополь[5]. Этот приказ демонстрирует полное отречение от античной традиции запрета на прикосновение к мертвому телу. Существует также предание, что впервые показал особое отношение к мощам святых апостол Лука, будто бы отделивший от остальных мощей Иоанна Предтечи его десницу и перенесший святыню в Антиохию, где она хранилась в течение многих веков; если это предание подлинно, то почитание мощей восходит непосредственно к апостольским временам.
Ко времени равноапостольных Константина и его матери Елены относится начало строительства над могилами святых (или в памятных местах) мартириев — культовых зданий особого типа. К концу IV века строительство мартириев получает новый импульс в связи с закрепляющейся традицией перенесения мощей как на Западе империи, так и на Востоке[6]. Император Феодосий I Великий (379-395) законодательно разрешил хоронить умерших в городской черте, но под землей, однако позже развивающееся византийское законодательство допускало захоронения в церквях. Окончательно закрепил возможность хоронить усопших над землей император Лев VI Мудрый (886-912) в своих «Новеллах»[7].
Мощи очень рано приобретают также и литургическое значение, хотя развитие этого аспекта почитания святых останков происходило не так быстро, как это обычно представляется. Известен указ от 269 года Папы Римского святителя Феликса I о служении Литургий на могилах мучеников[8]. Однако на самом деле на могилах, вероятно, совершались лишь поминальные службы, а о наличии мощей в местах регулярных собраний христиан для общей молитвы достоверных сведений нет[9]. Практика перенесения мощей с места захоронения в специально освященный в честь святого храм становится допустимой лишь с середины IV века. Однако даже после VI века в Византии чин освящения престола и храма не предполагал обязательного вложения мощей в престол, эта практика была в целом нерегулярной[10]. Обязательным же это стало лишь после определения VII Вселенского Собора (787): «Если какие-либо честные храмы были освящены без святых мощей мученических, определяем: да будет совершено в них положение мощей с обычной молитвой» (Прав. 7); это постановление появилось в ответ на отказ от почитания мощей иконоборцами, при которых новые престолы всегда освящались без вложения мощей, а из ранее освященных престолов мощи часто удалялись. Видимо, к этому же времени (иконоборчество) относится и распространение антиминса в современном значении этого слова. Из послания императоров Михаила II Травла (820-829) и его сына Феофила (829-842), а также из ответов преподобного Феодора Студита можно заключить, что в Византии антиминс первоначально имел вид дощечки с иконографическими изображениями или тканого плата[11], впоследствии же антиминсы стали изготавливаться только из ткани и снабжаться карманом, куда были зашиты мощи мученика[12]. Постепенно литургическое значение мощей все более возрастало. Появились разнообразные богослужебные чины, посвященные почитанию мощей: чин Омовения мощей (освящение воды мощами), молитвы на перенесение святых мощей, молитвы на положение святых мощей, молитвы после положения святых мощей, крестный ход с мощами, исхождение на литию к месту упокоения мощей[13]. В церковном календаре отмечаются даты обретения мощей (обнаружение или раскрытие гробницы святого) и перенесения мощей. В агиографии обретению и перенесению мощей определенного святого часто посвящаются отдельные сказания, что дает возможность говорить об особых агиографических жанрах — «Обретение мощей» и «Перенесение мощей».
В церемониях византийского двора мощи также играли важную роль. В торжественной процессии перенесения мощей чтимого святого византийский император принимал участие вместе с Патриархом. При императоре Константине VII Багрянородном (912-959) в Константинополь из Антиохии была привезена упомянутая выше десница пророка Иоанна Предтечи, которая была определена на хранение в церковь Пресвятой Богородицы Фаросской. Десницей Иоанна Предтечи освящали воду на праздник Крещения Господня, кроме того, святыню задействовали в церемонии поставления императоров на царство[14]. Использование в этом действе руки, крестившей Христа, символизировало параллель между Христом и византийским императором.
Что касается догматического обоснования почитания мощей, то этот процесс вовсе не был простым и прозрачным. Вероятно, старые предписания сторониться мертвых тел, на практике изжившие себя довольно быстро и легко, в теории не сразу нашли достаточно аргументов к своему окончательному упразднению. Одно из самых ранних сочинений, в которых ведется полемика с противником поклонения мощам пресвитером-еретиком Вигилянцием, принадлежит блаженному Иерониму Стридонскому († 419/20) — «Против Вигилянция».
В дальнейшем многие отцы Церкви обращались к вопросу о почитании мощей. Они признавали благодатное действие мощей и происходящие от них чудеса и трактовали это как напоминание о подвиге святого и призыв следовать его примеру, а также как продолжение тех благодеяний, что святой совершал при жизни, то есть, по представлению отцов, в мощах сохраняется благодать, дарованная святому при жизни. Этим вызваны случаи обращения к мощам святого как к живому человеку. Один из самых известных примеров подобного обращения — чудо великомученицы Евфимии Всехвальной. По сведениям агиографических источников, на IV Вселенском Соборе (Халкидонском, 451 г.) велись длительные прения относительно монофизитства. Поскольку ни одна из сторон не могла представить аргументы, способные окончательно убедить оппонентов, архиепископ Константинопольский святитель Анатолий предложил написать тезисы православного и монофизитского вероисповеданий на двух свитках и положить их в раку с мощами великомученицы Евфимии. Когда на четвертый день после этого открыли раку, свиток с положениями монофизитской ереси лежал в ногах святой, а свиток с изложением православных вероучительных определений она держала в руке и сама протянула его святителю Анатолию.
И тем не менее четкой богословской доктрины о мощах в трудах отцов Церкви так и не было сформулировано. В их взглядах на этот предмет можно даже найти некоторые противоречия, особенно это касается перенесения и перезахоронения останков. Так, святитель Иоанн Златоуст в «Слове о блаженном Вавиле» говорит: «Не на то гляди, что лежит пред тобой нагое тело мученика, лишенное душевной деятельности, а рассмотри то, что в нем присутствует иная, высшая самой души сила, благодать Святого Духа, которая через свои чудотворения всем говорит в защиту воскресения»[15]. Однако в том же «Слове» святитель обозначает свое отношение к погребению и перезахоронению тел так: «Кто слыхал, чтобы мертвые были когда-нибудь изгоняемы? Кто видал, чтобы приказывалось переносить с одного места на другое бездушные тела... Общие законы природы у всех людей — покрывать умершего землей, предавать погребению и хоронить в недрах матери всех — земли»[16].
Вопрос богословского обоснования почитания мощей особенно остро встал в период иконоборчества, когда было отвергнуто не только почитание изображений Бога и святых, но и мощей; кроме того, происходило их осквернение и в некоторых случаях уничтожение. Почитание мощей, как и святых икон, было окончательно утверждено на VII Вселенском Соборе: «Как спасительные источники Господь Христос даровал нам останки святых, источающие немощным многообразные благодеяния, изливающие благовонное миро и прогоняющие демонов»[17]; «Итак, мы определяем, чтобы осмеливающиеся думать или учить иначе, или по примеру непотребных еретиков презирать церковные предания и выдумывать какие-либо нововведения, или же отвергать что-либо из того, что посвящено Церкви, будет ли то Евангелие, или изображение креста, или иконная живопись, или святые останки мученика, а равно (дерзающие) с хитростию и коварно выдумывать что-либо для того, чтобы ниспровергнуть хотя какое-либо из находящихся в кафолической Церкви законных преданий, и наконец, (дерзающие) давать обыденное употребление священным сосудам и досточтимым обителям, — определяем, чтобы таковые, если это будут епископы или клирики, были низлагаемы, если же будут иноки или миряне, были бы отлучаемы»[18]. К этому же времени относятся слова преподобного Иоанна Дамаскина: «Владыка Христос даровал нам мощи святых, как спасительные источники, которые источают многоразличные благодеяния и изливают миро благовония. И пусть никто не сомневается! <...> По Закону всякий, прикоснувшийся к мертвому, почитался нечистым; но святые не суть мертвые. Ибо после того, как Тот, Кто есть сама жизнь и Виновник жизни, был причтен к мертвым, мы уже не называем мертвыми почивших в надежде воскресения и с верою в Него»[19].
На Руси после Крещения стала распространяться и общехристианская для того времени практика почитания мощей. Сам равноапостольный князь Владимир в конце X века перенес в Киев из византийского Херсонеса мощи священномученика Климента, епископа Римского, и его ученика св. Фива[20]. Интересно отметить, что на русской почве греческое слово, обозначающее в данном случае останки святого, — λείψανα — не было переведено буквально, но возник новый термин, собственно «мощи», образованный от славянского глагола «мощи, можеши» и слова «мощь»[21]; таким образом, понятие «мощи» отсылает к некоей силе, присущей останкам святого, и этимологически не связано с греческим аналогом. Оно фиксируется в церковнославянских и древнеболгарских текстах с X века[22].
Под мощами понимается как тело святого, так и его части (частицы мощей), в том числе волосы, кровь, прах. На Руси отношение к облику мощей было различным. Согласно летописцу, упоминающему об агиографе Пахомии Логофете (XV в.) и его «Слове на память обретения мощей московских святителей и чудотворцев» (при строительстве Успенского собора, 1471), Пахомий написал, что мощи были обретены «в теле», то есть в целокупном виде, «неверия ради людскаго, занеже кои только не в теле лежит, тот у них не свят, а того не помянут, яко кости наги источают исцелениа»[23]. Действительно, как правило, нетленность мощей рассматривается как особое чудесное свидетельство святости, хотя и не является обязательным ее условием. Однако, например, для афонской традиции характерен противоположный взгляд на нетленность: этот особый признак, присущий останкам усопшего, может интерпретироваться как указание на его исключительную греховность[24]. Бесспорным доказательством святости усопшего являются действия благодати от его мощей, которые могут иметь самый разный вид: источение благоухания, мироточение, излучение сияния, чудеса исцеления.
В храме местом пребывания мощей служат разные виды емкостей: рака, саркофаг, мощевик (часто в виде креста; например, знаменитый Кийский крест, сделанный в XVII веке в Палестине по заказу Патриарха Никона, содержит 94 частицы мощей и еще несколько реликвий: часть ризы Пресвятой Богородицы, часть древа Честного Креста и др.) или ковчежец, где хранятся небольшие частицы мощей, различного рода реликварии, обычно в виде той частицы, которая в них содержится (реликварии в виде руки, стопы, головы). Мощи могут быть доступны для всеобщего поклонения, а могут выноситься из алтаря, ризницы или сокровищницы лишь в особые дни. Уникальное место представляет собой некрополь Киево-Печерской лавры, где мощи ее святых насельников одновременно находятся и в месте их погребения в пещерах, и доступны для поклонения паломников. Мощи могут также находиться под спудом, то есть храниться в запечатанной раке и никогда не открываться для поклонения. В Византии, кроме алтаря, мощи могли вкладывать в другие части здания церкви: особенно знаменито предание о том, что мощи святых (неизвестных по имени) были вложены во все или во многие колонны главного храма Константинополя — Святой Софии[25]; есть и другие сведения о мощах, вложенных в колонны, а также в кладку стен и фундамент в других храмах[26].
Мощи также вкладываются в оклады икон или непосредственно в доски, на которых пишутся иконы, подобные примеры известны как в византийском, так и домонгольском древнерусском искусстве, а также в позднем Средневековье. Уникальное свидетельство имеется относительно написания Влахернской иконы Божией Матери: в свидетельствованной грамоте Патриарха Константинопольского Паисия I (сер. XVII в.) отмечено, что икона создана «смешением от святых мощей и от иного многого благоуханного состава», то есть фактически сама икона является мощевиком-реликварием, поскольку мощи были добавлены в краску.
Практика разделения мощей на части известна с IV века. Согласно православному учению, действие благодати всецело сохраняется в каждой частице мощей независимо от ее размера. Феодорит, епископ Кирский (V в.), так пишет о разделении мощей: «Тела святых не скрывает могила, но их делят между собой города и деревни и называют их спасителями душ и врачевателями тел, их почитают как стражей и хранителей городов... и притом, что тело бывает разделено, благодать остается неделимой»[27]. Однако в агиографии мы видим противоречивые примеры отношения к разделению мощей. Например, в мученичестве Менигна († III в.) святой явился одному из христиан, который под покровом темноты забрал его тело для погребения, но оставил голову, и повелел забрать ее. Мотив воссоединения или запрет на разделение останков по воле святого довольно распространен в житийной литературе. В Житии преподобного Константина Синадского (IX в.) есть примеры благоволения святых к разделению их мощей — после того как Константин долго молился в пещере, где находились останки так называемых явленных святых, он увидел, как от их мощей чудесным образом отделился большой палец, предназначенный ему в дар[28]. Через некоторое время во сне Константину явился святой Паламон, приказал прийти в его храм, взять десницу от его мощей и отнести ее в определенный монастырь[29]. Исходя из противоречивых агиографических примеров, можно сделать вывод, что отношение самого святого к разделению его останков весьма индивидуально. Показательна выборка византийских агиографических источников, общее число которых не поддается исчислению, где содержатся примеры почитания мощей, а также представлены особенности византийского мировоззрения относительно останков святых, собранная А.Ю. Виноградовым[30].
На Западе обычай разделять мощи не был распространен до VIII века и вошел в обиход в связи с необходимостью защиты мощей при нашествии варварских племен. После разделения Церквей в Католической Церкви не было однозначного отношения к делению мощей на части. Так, погребение святого Франциска Ассизского († 1226) было намеренно скрыто, чтобы его останки не подверглись разделению. Однако на Западе хорошо понимали религиозную и культурную ценность мощей и реликвий. После разорения Константинополя (1204) участниками 4-го Крестового похода в Западную Европу было вывезено огромное количество мощей, других реликвий и икон; для хранения этих святынь в 1242-1248 годах в Париже Людовиком IX Святым была специально построена часовня-реликварий Сент-Шапель; опись захваченного была составлена П.Э.Д. Рьаном[31]. Наличие в кафедральных соборах европейских городов мощей святого — покровителя города играло важную роль в духовной жизни Католической Церкви.
На Руси практика разделения мощей местных святых не получила такого широкого распространения, как в Византии, однако частицы мощей, привозимые из Греции (XVI-XVIII вв.), благоговейно принимались и почитались.
С самого раннего времени мощи являлись объектом паломничества. Так, на гробнице великомученицы Мины (память 11 ноября) в конце III-IV веке возник известный во всем христианском мире паломнический комплекс Абу-Мина. В Малой Азии также с конца III века процветал паломнический центр в Евхаитах, где почитались мощи мученика Феодора Тирона. Нередко паломники оставляли подробное описание своих путешествий с перечислениями мощей и реликвий, которым им удалось поклониться. Наиболее известны воспоминания паломницы Эгерии (Itinerarium Egeriae, конец IV в.), а из русских источников — описания паломнических поездок игумена Даниила (вторая пол. ХI — первая пол. ХII в.), автора «Жития и хожения игумена Даниила», святителя Антония, архиепископа Новгородского († 1232), описавшего свое путешествие в «Книге Паломник», диакона Зосимы (конец XIV — первая пол. XV в.).
Мощи понимались не только как святыня, но и как ценное имущество, которое можно продать, купить, подарить и выкрасть. Сохранилось сказание о похищении мощей апостола и евангелиста Марка, которые венецианцы перевезли из Александрии в Венецию, спрятав в корзине с овощами, а сверху закрыв кусками свиной туши, чтобы избежать обыска мусульман (BHL, N 5283-5284). Тайным способом были вывезены из Мир Ликийских в Бари и мощи святителя Николая Чудотворца. Святыни выкрадывались под предлогом спасения от уничтожения, которое им, возможно, действительно грозило при мусульманском владычестве; это явление получило название furta sacra («священное воровство»; см.: Geary P. J. Furta sacra: Thefts of Relics in the Central Middle Ages. Princeton, 1978).
Практика разделения мощей и отношение к ним как к материальным ценностям привели к появлению фальсификаций. Критика подделки мощей и обмана верующих нашла отражение в трактате Ж. Кальвина «О реликвиях» (1543) (Traité des reliques // Opera. B., 1867. Vol. 6. Col. 405-452. (CR; 34)), в котором осуждается не только подделка мощей, но и фальшивые реликвии, например щит и меч Архангела Михаила и другие. Злоупотребление торговлей мощами и реликвиями, распространение фальшивок с целью наживы стали одним из поводов Реформации и, как следствие, отвержения протестантами догмата о почитании мощей.
В России, куда существенная часть мощей поступала из Греции, также отмечены случаи недоразумений в связи с этими святынями. Вопрос о необходимости обращать внимание на подлинность мощей был принципиально подчеркнут императором Петром I в Духовном регламенте от 1721 года. В антирелигиозной литературе реликвии необоснованно объявляются фальшивыми: например, якобы наличие нескольких десниц (правых рук) какого-либо святого может объясняться тем, что небольшая частица мощей помещена в реликварий в форме правой кисти; таким образом, под десницей святого понимается не собственно правая рука, а мощевик с ее частицей, изготовленный в форме руки.
Во время революционных потрясений антирелигиозные настроения приводили к серьезному ущербу и физическому уничтожению реликвий и мощей. Много мощей было уничтожено во время Великой французской революции (1789-1799). В России в 1918 году началась кампания по вскрытию мощей, во время которой была выявлена практика восполнять недостающие фрагменты останков посторонними материалами (воском, ватой и т. п.), что было обусловлено буквальным пониманием термина «нетленные мощи», возникшим в России в XVIII-XIX веках. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, в 1919 году издал указ «Об устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении святых мощей», которым предписывал епархиальным архиереям удалить посторонние включения в мощи. Во время советской кампании по вскрытию мощей, сошедшей на нет в 1930-е годы, святыни, как правило, не уничтожались, а отправлялись на хранение в запасники музеев. Многие святыни впоследствии были возвращены Церкви, как, например, мощи преподобного Серафима Саровского. Однако во время вскрытия происходили акты осквернения мощей.
В настоящее время существует практика научного исследования мощей с целью установления их подлинности. До настоящего времени продолжается научная работа по идентификации останков царской семьи.
В Русской Православной Церкви распространено почитание святых мощей, сопровождаемое фиксацией чудес исцеления, перенесением частиц мощей в различные города и населенные пункты с целью обеспечить потребность христиан почтить святыню, не совершая паломничество. Догмат о почитании мощей, безусловно, тесно связан с фундаментальным христианским догматом о воплощении и телесном воскресении Христа и с учением христианской антропологии о человеческом теле как о храме Святого Духа.
Ольга Афиногенова
***
Список сокращений
ActaSS — Acta Sanctorum
BGH — Bibliotheca Hagiographica Graeca
PG — Patrologia Graeca
PL — Patrologia Latina
ВВ — Византийский временник
ДВС — Деяния Вселенских Соборов
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
ПЭ — Православная энциклопедия
***
Список использованной литературы
Brown P.R.L. The Cult of the Saints: Its Raise and Function in Latin Cristianity. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
Bynum C.W., Gerson P. Body-Part Reliquaries and Body Parts in the Middle Ages // Gesta. N. Y., 1997. Vol. 36. N 1. P. 3-7.
Grabar A. Martyrium: Recherches sur les cultes des reliques et l’art chrétien antique. 3 vol. P., 1943-1946.
Hermann-Mascard N. Les reliques des saints: Formation coutumière. P., 1975.
Kalavrezou I. Helping Hands for the Empire: Imperial Ceremonies and the Cult of Relics at the Byzantine Court // Byzantine Court Culture from 829 to 1204 / Ed. H. Maguire. Wash., 1997. P. 53-79.
Klein H.A. Sacred Relics and Emperial Ceremonies at the Greate Palace of Constantinople // Visualisierungen von Herrschaft / Hrsg. F. A. Bauer. Istanbul, 2006. P. 79-100.
Meinardus O.F.A. A Study of the Relics of Saints of the Greek Orthodox Church // Oriens Chr. 1970. Vol. 54. P. 130-278.
Афиногенова О.Н. Мощи // ПЭ. 2017. Т. 47. С. 532-537.
Бакалова Е. Реликвии у истоков культа святых // Восточнохристианские реликвии / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2003. С. 19-44.
Грацианский М.В. О греческих истоках старославянских понятий «мощи» и «причащение» // Qeodoаloj: Сб. ст. памяти И.С. Чичурова. М., 2012. С. 73-83.
Желтов М., диак. Реликвии в византийских чинопоследованиях // Реликвии в Византии и Древней Руси: Письменные источники / ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2006. С. 67-83.
Иванов С.А. Благочестивое расчленение: Парадокс почитания мощей в визант. агиографии // Там же. С. 121-131.
Остров П. О почитании святых мощей // Журнал Московской Патриархии. 1997. № 1. С. 65-73.
Попов И.В. О почитании святых мощей // Tам же. С. 74-78.
Успенский Ф.Б. Нетленность мощей: Опыт сопоставительного анализа греч., рус. и скандинавской традиций. М.: Прогресс-Традиция, [2003]. С. 151-160.
Шевченко И.О западных истоках старославянских понятий «мощи» и «причащение» / пер. с англ. Г.Г. Литаврина // ВВ. Т. 66. 2007. С. 223-228.
***
[1] См. подробнее: Беляев Л.А., Э. П. И. Некрополь // ПЭ. Т. 48. 2017. С. 566-574.
[2] Hieronimus. De viris illustribus. 16 // PL. 23. Col. 604-631.
[3] Passio Polycarpi, ep. Smyrnenis. 18 (BHG, N 1556-1560).
[4] ActaSS. Maii. T. 3. P. 278-283.
[5] Woods D. The Date of the Translation of the Relics of Saints Luke and Andrew
to Constantinople // VChr. Vol. 45. 1991. № 3. P. 290.
[6] См. подробнее: Виноградов А.Ю. Мартирий // ПЭ. Т. 44. 2016. С. 198-200.
[7] Les Novelles de Léon VI, le Sage. N 53 / Ed. P. Noailles, A. Dain. P., 1944;
см. также: Dagron G. Le Romanité crétienne en Orient: Héritages et mutations. L., 1984. N 9. P. 16-19).
[8] Liber Pontificalis. XXVII.
[9] Izzo J. M. The Antimension in he Liturgical and Canonical Tradition of the Byzantine and Latin Churches. R., 1975. P. 12-20.
[10] Желтов М., диак. Реликвии в византийских чинопоследованиях // Реликвии в Византии и Древней Руси: Письменные источники / ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2006. С. 67-83.
[11] Izzo J. M. Op. cit. P. 28-30.
[12] Подробнее см. также: Желтов М.С., Попов И.О. Антиминс // ПЭ. Т. 2. 2001. С. 489-492.
[13] Желтов М., диак. Указ. соч. С. 70-82.
[14] Constantinus porphyrogenitus. De cerimoniis aulae byzantinae. i 3 / ed. J.J. Reiske. Vol. 1-2. Bonnae, 1829-1830.
[15] Ioannes Chrysostomus. De stanto. Babyla // PG. 50. Col. 529.
[16] Ibid. Col. 351.
[17] ДВС. Т. 4. С. 410.
[18] Там же. Т. 7. Деян. 7. С. 285.
[19] Ioannes Damascenus. Expositio fidei orthodoxa. 15 // PG. 94. Col. 781-1228.
[20] ПСРЛ. T. 1. Стб. 116 [Лаврентьевская летопись]; Т. 2. Стб. 101 [Ипатьевская летопись].
[21] Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М., 1986.
С. 668.
[22] Български етимологичен речник. Т. 4. София, 1995. С. 269.
[23] Софийская II летопись // ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. 2001. Стб. 212-213.
[24] Успенский. 2003. С. 152, 157.
[25] Dagron G. Constantinople imaginaire: études sur le recueil des Patria. P., 1984. P. 197, 203, 238. Not. 117.
[26] Teteriatnikova N. Relics in the Walls, Pillars and Columns of Byzantine Churches // Восточнохристиансие реликвии / ред.-сост. М. Лидов. М., 2003. С. 77-92.
[27] Theodoretus Cyrrhensis. Graecarum affectionum curatio. VIII // PG. 83. Col. 1012.
[28] Житие прп. отца нашего Константина, что из иудеев. Житие св. исп. Никиты, игум. Мидикийского / пер., сост. Д.Е. Афиногенов. М., 2001. С. 33.
[29] Там же. С. 35.
[30] Реликвии в византийской агиографии / сост., пер., коммент. А.Ю. Виноградов // Реликвии в Византии и Древней Руси: Письменные источники / ред.-сост.: А.М. Лидов. С. 11-51.
[31] Riant P. E. D. (ed.). Exuviae Sacrae Constantinopolitanae. T. 1-2. Gen., 1877-1878.
«Церковный вестник»/Патриархия.ru